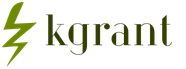Виктор астафьев веселый солдат. «Веселый солдат» Виктор Астафьев. О книге «Веселый солдат» Виктор Астафьев
“И с отвращением читая жизнь мою...”
Виктор Астафьев. Веселый солдат. Повесть//Новый мир, 1998. №№ 5-6.
“Мои года - мое богатство”, - пел Вахтанг Кикабидзе со светлой грустью в голосе, и никому в голову не приходило, что слова популярной песни могут иметь буквальный смысл. Но вот пришло время вспоминать. Мемуары заняли прочное место на книжных лотках, вполне уверенно конкурируя с детективами и “женскими романами”. “Года” стали неожиданно приносить вполне реальный доход. Оказалось, что писать о себе, любимом, не только легко и приятно, но и выгодно. И не обязательно быть героем, можно быть и антигероем. Даже более того, антигероем-то быть, с коммерческой точки зрения, даже и повыгоднее. Надоели герои за последние семьдесят лет до тошноты. Но даже если ты ни героем, ни антигероем не случился, но был рядом, то почему же бы и об этом не написать. Так сказать, “на фоне Пушкина”. И пошла писать губерния. Пишут все: политики, бизнесмены, артисты, спортсмены, писатели, ученые. Советники политиков, главные бухгалтеры, суфлеры, тренеры, секретари. Помощники советников, кассиры, рабочие сцены, массажисты, машинистки... Настоящие “отечественные записки”, по остроумному замечанию героя Достоевского, “так сказать, все отечество сидит да записывает...”.
Лишь немногих память прошлого отягощает. И уж совсем мало среди “новых мемуаристов” тех, кто готов предстать перед судом памяти. Мемуарно-автобиографическая повесть Виктора Астафьева “Веселый солдат” исполнена тем чувством, которое когда-то побудило Пушкина написать:
Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток;
И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.
“Сидя на санях”, как выражались в старину, Астафьев не просто инвентаризует беды и неурядицы своей жизни, вспоминает ошибки и промахи, реже - радости и удачи, но пытается в череде событий и дел увидеть то единственное, которое стало главным, определило судьбу. Читатель не сразу догадывается, что перед ним - исповедь. Да и сам автор не спешит с подсказкой. Сначала даже и не поймешь, от реального, вымышленного ли лица ведется повествование. Но ближе к середине все больше и больше проступают автобиографические черты, а к концу и вовсе уходят прочь всякие фигуры отстранения. Герой получает имя и из “веселого солдата” становится Виктором Астафьевым.
Писатель обращается к годам своей молодости. Последние дни на фронте, ранение, госпиталь, один, другой, третий, женитьба, возвращение к мирной жизни, знакомство с семьей жены, симпатии и антипатии, радости супружеской жизни, бедность и злоба, ночные кошмары, надрывы, конфликты, любовь, похороны, рождения, похороны, похороны. Сюжет прорисовывается едва-едва. Всплывают отдельные яркие сцены. Возникают иногда драматичные эпизоды. Но все остывает, не развившись, гаснет без продолжения. Как в жизни. Повествование течет по прихоти памяти, медленно, с зигзагами отступлений и провалами умолчаний: “Память моя - что кочегар на старом пароходе , - усмехается Астафьев, - шурует и шурует уголь в топку, а куда, зачем и как идет пароход - нижней команде не видно, ей лишь бы в топке горело да лишь бы пароход шел ”. И кажется порой, что на капитанском мостике никого нет. “Так ведь бывало во всех поворотах моей жизни: занесет меня черт-те куда и зачем, как и вылазить из препятствия, как очередную препону на пути преодолевать - соображай, умом напрягайся либо пускай все по течению - авось вынесет ”. Впрочем, иногда кто-то все-таки нет-нет да и вспомнит о руле и ветриле, крутанет штурвал, выведет с отмели какого-нибудь ненужного описания второстепенной подробности в фарватер основного действия.
Повесть начинается в лучших традициях исповедальной прозы. Строго и энергично, без лишних слов: “Четырнадцатого сентября одна тысяча девятьсот сорок четвертого года я убил человека. Немца. Фашиста. На войне. ” Так начинал в одном из черновых вариантов Достоевский “Преступление и наказание”. От такого начала ждешь соответствующего продолжения. Но читатель тут же натыкается на семь пейзажных абзацев из тургеневских “Записок охотника”, плавно переходящих в “Севастопольские рассказы” Толстого с их обстоятельностью фронтового быта и подробностями диспозиций-фортификаций. А гаршинского возвращения к убитому человеку, хоть и немцу, и фашисту, не получается. И автор о нем через пару страниц “забывает”, как забыл о нем когда-то “веселый солдат”: “Немец, убитый мною, походил на кого-то из моих близких, и я долго не мог вспомнить - на кого, убедил себя в том, что был он обыкновенный и ни видом своим, ни умом, наверное, не выдававшийся и похож на всех обыкновенных людей ”. Лишь пару раз, как сквозь сон, промелькнет в повести тень безымянного солдата Вермахта, почти ненужной и никчемной ремаркой вторгаясь в полусвязный монолог памяти. Но, как окажется в итоге, именно призрак убитого “фашиста” будет преследовать бойца, тихо, но неизменно мстить за неискупный грех Каина.
Странная эта все-таки исповедь. Покаяние переплетается с проклятием, плач - с иронией, благочестие - со сквернословием, молитва - с публицистикой. Какая-то растерянность чувствуется во всем строе (или развале?) книги. Покаяние - без надежды на прощение. Проклятие - без гнева. Плач - без слез. Ирония - без отрицания. Такое впечатление, что, остро нуждаясь в исповедальном слове, Астафьев не знает, в каком словаре его отыскать. Даль? Ушаков? Ожегов? В поисках утраченной искренности писатель, как раненый зверь, мечется по клетке приблатненной советской речи, нанося себе все новые и новые раны об острые штыри новояза, осколки народного говора, колючую проволоку мата. Стиль рушится в пределах одного абзаца: “...как поется опять же в патриотической песне: “Ту-упой фашистской нечисти загоним пулю в лоб!..” Прикончили. Загнали ему пулю в лоб и в жопу. Кого закопали. Кого рассеяли. Сами тоже рассеялись. Пора браться за ум. Пора учиться жить. Биться в одиночку. За существование! Слово-то какое! Выстраданное, родное, распрекрасное - новорожденное, истинно наше, советское. На полкиловой пайке его и не выговоришь. А что пиздострадателя этого не изрубил, Бог, значит, отвел. Хватит мне и немца, мною закопанного в картошке. Каждую почти ночь снится ”. “Бля”, - следовало бы тут добавить.
Кстати, именно отношение к ненормативной лексике ярче всего отражает растерянность автора. Первая часть повести буквально пронизана матерщиной. Вроде бы и понятно: фронт, война, госпиталь, сволочной быт советской действительности - как тут обойтись нормальной речью? Слова выскакивают со злости. Но иные, вполне достойные крепкого слова эпизоды автор благополучно минует, в других же, когда и не ждешь, - вдруг разражается отменной бранью. В одних случаях - обматюкает в полный рост, а в других - те же самые непристойные в приличном обществе выражения прикроет фиговым листком многоточия. Сраму не оберешься! И охота большому русскому писателю, “задрав штаны, бежать за комсомолом”, то бишь за Лимоновым с Сорокиным! Реализм без берегов? Но ведь как-то удавалось “веселому солдату” Василию Теркину говорить на те же темы стихами .
Был, конечно, и протопоп Аввакум с гневными глаголами, да вот сил-то, похоже, у Астафьева на гнев уже не осталось: “Ныне меня, как и многих стариков, оглохших от советской пропаганды и социалистического прогресса, потянуло жить на отшибе, вспоминать, грустить и видеть длинные, вялые сны, почти уж без ужасов , - признается на последней странице автор. - Разгружая память и душу от тяжестей, что-то, тоже вялое, выкладывать на бумагу, совершенно уже не интересуясь, кому и зачем это нужно ”. А коль так, то и - “все позволено”?
“Совсем недавно, в каком-то промежутке тягучих, сочинительски-бредовых снов , - заканчивает свою повесть Астафьев, - увидел я отчетливо и ясно палец в брезентовом заношенном напалке. Стянул зубами грязно-соленый напалок и увидел неуклюже обросшую мясом кость, увенчанную кривым, зато крепким, что конское копыто, ногтем, и без всякого ехидства, без боли и насмешки подумал: “Да-а, все-таки они схожи: моя жизнь и этот изуродованный на производстве палец.”
Четырнадцатого сентября одна тысяча девятьсот сорок четвертого года я убил человека. В Польше. На картофельном поле. Когда я нажимал на спуск карабина, палец был еще целый, не изуродованный, молодое мое сердце жаждало горячего кровотока и было преисполнено надежд”. Нет, что и говорить, все-таки очень странная исповедь. Ни смиренная, ни страстная. Ни частная, ни публичная. Ни горячая, ни холодная. В вагонном купе дальнего следования. За бутылкой водки на полночной кухне. На больничной койке многоместной палаты. Исповедь советского человека.
“О, если бы ты был холоден или горяч! Но поелику ты тепел, а не горяч и не холоден, то изблюю тебя из уст Моих” (Отк. 3: 16). Это сказано не о Викторе Астафьеве, авторе “Последнего поклона” и “Царь-рыбы”. Это сказано о “веселом солдате”, проливавшем кровь на фронтах Великой войны.
За нашу Советскую Родину...
Павел Фокин
В. Астафьев — роман «Веселый солдат». В этом романе представлена «окопная правда» солдат, атмосфера военных и гражданских будней, того мира, в котором пришлось жить героям Астафьева. Книга выходит за рамки традиционно-литературного изображения воинского быта, мы видим, что солдаты, героически защищающие Родину, фактически никому не нужны, что жизнь человеческая обесценена. В романе широко представлены так называемые отрицательные персонажи, представители власти, системы, медицинские работники.
Таковы у Астафьева санпоездники, замполит госпиталя Владыко, начальница госпиталя Чернявская, Черевченко, капитан, муж Калерии. Первая часть романа носит название «Солдат лечится». В действительности же в том госпитале, куда попадает герой романа, не происходит никакого лечения. Основной рецепт для всех больных в этом заведении — наложение гипса, под которым у бойцов заводятся клопы и черви. «Главное лечение здесь был гипс. Его накладывали на суставы и раны по прибытии раненого в госпиталь и, как бы заключив человека в боевые латы, оставляли в покое. Иные солдаты прокантовались в этом «филиале» по годику и больше, гипс на них замарался, искрошился в сгибах, на грудях — жестяно-черный, рыцарски посеребренный, сверкал он неустрашимой и грозной броней. Под гипсами, в пролежнях, проложенных куделей, гнездились вши и клопы — застенная зараза приспособилась жить в укрытии и плодиться. Живность из-под гипсов выгоняли прутиками, сломленными в саду, и гипсы, как стены переселенческих бараков, щелястых, плохо беленных, были изукрашены кровавыми мазками давленых клопов и убитых трофейных вшей, которые так ловко на гипсе давились ногтем, так покорно хрустели, что вызывали мстительные чувства в душах победителей». Раненым приходилось самостоятельно бороться с этим явлением, так как медперсонал госпиталя больными фактически не занимался. Так, раздобыв марганцовки, бойцы помогли одному из раненых — Васе Саратовскому, потому что под гипсом у него завелись черви. Отвратительна сцена с начальницей госпиталя Чернявской, где она, возмущенная самоуправством и самолечением больных, пытается запугать их, угрожает им штрафбатом. Так же безобразен и замполит госпиталя Владыко, низкий, трусливый, лицемерный человек. Он создает лишь видимость деятельности, ничего не предпринимая в реальности. Все новости он узнает, играя с солдатами в шахматы.
Другая группа образов — это персонажи, сумевшие сохранить в себе человечность, честность, доброту, милосердие. Таковы в романе санитарки Клава и Аня, Петя Сысоев и Анкудин Анкудинов, лаборантка Лиза, Семен Агафонович, тесть главного героя. Петя Сысоев не бросил своего друга Анкудина, когда его ранили, помог переправить его в госпиталь. Лиза поддерживала Сергея, когда весь госпиталь потешался над ним из-за того, что он избегает женщин.
Книга В. Астафьева имеет кольцевую композицию. Начинается и заканчивается она упоминанием о немце, которого убил главный герой. «…Четырнадцатого сентября одна тысяча девятьсот сорок четвертого года я убил человека». «Попив из фляги воды, долго лежал в холодной осенней земле и не мог уснуть, телом ощущая, как, не глубоко мною зарытый в покинутом окопчике, обустраивается навечно в земле, чтобы со временем стать землею, убитый мною человек. Еще течет меж пальцев рук, в полураскрытые глаза и в рот мертвеца прах скудного, рыхлого прикарпатского крестьянского поля, осыпается комочками за голову, за шею, гасит последний свет в полусмеженных глазах, темно-синих от мгновенной сердечной боли, забивает в последнем крике разжатый рот, в котором не хватало многих зубов и ни золотые, ни железные не были вставлены взамен утраченных. Бедный, видать, человек был — может, крестьянин из дальних неродовитых земель, может, рабочий с морского порта. Мне почему-то все немецкие рабочие представлялись из портов и горячих железоделательных заводов. Через несколько дней, с почти оторванной рукой, выводил меня мой близкий друг с расхлестанной прикарпатской высоты, и, когда на моих глазах в клочья разнесло целую партию раненых, собравшихся на дороге для отправки в медсанбат, окопный дружок успел столкнуть меня в придорожную щель и сверху рухнуть на меня, я подумал: «Нет, «мой» немец оказался не самым мстительным…».
Мы видим, что Сергея угнетает сознание совершенного им убийства. Точно так же страдал Петя Ростов, вспоминая убитого им француза, в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». Григорий Мелехов у Шолохова не мог забыть первого убитого им австрийца. Так и герой Астафьева. Он связывает это обстоятельство со своим ранением. Таким образом, мы видим осмысление рассказчиком своих поступков с позиций философских, жизнь — это и есть подлинная ценность, по мысли рассказчика.
Вторая часть романа носит название — «Солдат женится». Здесь мы видим композиционный параллелизм. Мирная жизнь также требует от героя душевных усилий, борьбы, душевной стойкости. Основные события жизни Сергея в этой части — женитьба, знакомство с семьей жены, рождение детей, работа и учеба в вечерней школе. Нелегко приходится герою в этой мирной жизни. Для того чтобы сфотографироваться на паспорт, он должен был продать запасную пару белья. Домик их не протапливается полностью, дров не хватает, в горсобесе Сергею отказывают в дровах, он прибегает к помощи военкома. От холодов, плохого питания заболела первая дочка героя, Лидочка. В больнице ее морили голодом. Как ни просила жена Сергея находящихся там кормящих женщин покормить ребенка грудью, никто не согласился. В результате девочка умерла. Нечем было справить поминки по ребенку. Голод, вечные холода, безденежье, болезни, бытовая неустроенность, нарушение властями прав людей — все это долго преследовало семью Сергея. Брат жены его, Вася повесился в сарае. Сестра ее Калерия умерла после родов, оставив маленького ребенка. Муж Калерии, капитан НКВД, сбежал, бросив своего сына. Сам герой болен туберкулезом, жена его вынуждена была сделать аборт, имея уже пять месяцев беременности. И исследуя сами истоки этой жизни, автор задается вопросами, возникающими в душе каждого русского человека: «Что с нами стало?! Кто и за что вверг нас в пучину зла и бед? Кто погасил свет добра в нашей душе? Кто задул лампаду нашего сознания, опрокинул его в темную, беспробудную яму, и мы шаримся в ней, ищем дно, опору и какой-то путеводный свет будущего. Зачем он нам, тот свет, ведущий в геенну огненную? Мы жили со светом в душе, добытым задолго до нас творцами подвига, зажженным до нас, чтоб мы не блуждали в потемках, не натыкались лицом на дерева в тайге и друг на дружку в миру, не выцарапывали один другому глаза, не ломали ближнему своему кости. Зачем это все похитили и ничего взамен не дали, породив безверье… Кому молиться? Кого просить, чтоб нас простили? Мы ведь умели и еще не разучились прощать, даже врагам нашим…»
Во второй части романа продолжает развиваться тема немецкого солдата. Один из пленных немцев, располагая свободным временем, постучался в дом Сергея. И тот впустил его кдом, накормил. Именно тот немец назвал героя «веселым солдатом». Так проясняется смысл названия романа. Он скорее ироничен, чем буквален. Очень мало веселого было в жизни Сергея, главного героя романа. Мирная жизнь «брала его за горло», заставляла действовать, требовала от него нравственных усилий, борьбы, умения противостоять злу, лжи, равнодушию.
Таким образом, война обнажала в персонажах героизм внешний, мирная жизнь же требовала героизма внутреннего — умения сохранить совесть, человеческое достоинство. Герой же Астафьева так и остался «веселым солдатом», простым русским человеком, которому, по словам Лескова, «умирать привычно». И писатель глубоко исследует это явление национального духа. Человек у Астафьева чудовищно унижен властью, начальством, государством, голодной и нищей жизнью, но он не сдается, сохраняет в своей душе свои понятия о нравственности и духовную самостоятельность.
4.4 (88%) 10 votes
Здесь искали:
- веселый солдат краткое содержание
- веселый солдат астафьев краткое содержание
- астафьев веселый солдат краткое содержание
Стр. 1 из 73
Светлой и горькой
памяти дочерей
моих Лидии и Ирины.
Боже! пусто и страшно становится в Твоем мире!
Часть первая. СОЛДАТ ЛЕЧИТСЯ
Четырнадцатого сентября одна тысяча девятьсот сорок четвертого года я убил человека. Немца. Фашиста. На войне.
Случилось это на восточном склоне Дуклинского перевала, в Польше. Наблюдательный пункт артиллерийского дивизиона, во взводе управления которого я, сменив по ранениям несколько военных профессий, воевал связистом переднего края, располагался на опушке довольно-таки дремучего и дикого для Европы соснового леса, стекавшего с большой горы к плешинкам малоуродных полей, на которых оставалась неубранной только картошка, свекла и, проломанная ветром, тряпично болтала жухлыми лохмотьями кукуруза с уже обломанными початками, местами черно и плешисто выгоревшая от зажигательных бомб и снарядов.
Гора, подле которой мы стали, была так высока и крутоподъемна, что лес редел к вершине ее, под самым небом вершина была и вовсе голая, скалы напоминали нам, поскольку попали мы в древнюю страну, развалины старинного замка, к вымоинам и щелям которого там и сям прицепились корнями деревца и боязно, скрытно росли в тени и заветрии, заморенные, кривые, вроде бы всего – ветра, бурь и даже самих себя – боящиеся.
Склон горы, спускаясь от гольцов, раскатившийся понизу громадными замшелыми каменьями, как бы сдавил оподолье горы, и по этому оподолью, цепляясь за камни и коренья, путаясь в глушине смородины, лещины и всякой древесной и травяной дури, выклюнувшись из камней ключом, бежала в овраг речка, и чем дальше она бежала, тем резвей, полноводней и говорливей становилась.
За речкой, на ближнем поле, половина которого уже освобождена и зелено светилась отавой, покропленной повсюду капельками шишечек белого и розового клевера, в самой середине был сметан осевший и тронутый чернью на прогибе стог, из которого торчали две остро обрубленные жерди. Вторая половина поля была вся в почти уже пониклой картофельной ботве, где подсолнушкой, где ястребинкой взбодренная и по меже густо сорящими лохмами осота.
Сделав крутой разворот к оврагу, что был справа от наблюдательного пункта, речка рушилась в глубину, в гущу дурмана, разросшегося и непролазно сплетенного в нем. Словно угорелая, речка с шумом вылетала из тьмы к полям, угодливо виляла меж холмов и устремлялась к деревне, что была за полем со стогом и холмом, на котором он высился и просыхал от ветров, его продуваемых.
Деревушку за холмом нам было видно плохо – лишь несколько крыш, несколько деревьев, востренький шпиль костела да кладбище на дальнем конце селенья, все ту же речку, сделавшую еще одно колено и побежавшую, можно сказать, назад, к какому-то хмурому, по-сибирски темному хутору, тесом крытому, из толстых бревен рубленному, пристройками, амбарами и банями по задам и огородам обсыпанному. Там уже много чего сгорело и еще что-то вяло и сонно дымилось, наносило оттуда гарью и смолевым чадом.
В хутор ночью вошла наша пехота, но сельцо впереди нас надо было еще отбивать, сколько там противника, чего он думает – воевать дальше или отходить подобру-поздорову, – никто пока не знал.
Наши части окапывались под горой, по опушке леса, за речкой, метрах от нас в двухстах шевелилась на поле пехота и делала вид, что тоже окапывается, на самом же деле пехотинцы ходили в лес за сухими сучьями и варили на пылких костерках да жрали от пуза картошку. В деревянном хуторе еще утром в два голоса, до самого неба оглашая лес, взревели и с мучительным стоном умолкли свиньи. Пехотинцы выслали туда дозор и поживились свежатиной. Наши тоже хотели было отрядить на подмогу пехоте двух-трех человек – был тут у нас один с Житомирщины и говорил, что лучше его никто на свете соломой не осмолит хрюшку, только спортит. Но не выгорело.
Обстановка была неясная. После того как по нашему наблюдательному пункту из села, из-за холма, довольно-таки густо и пристрелянно попужали разика два минометами и потом начали поливать из пулеметов, а когда пули, да еще разрывные, идут по лесу, ударяются в стволы, то это уж сдается за сплошной огонь и кошмар, обстановка сделалась не просто сложной, но и тревожной.
У нас все сразу заработали дружнее, пошли в глубь земли быстрее, к пехоте побежал по склону поля офицер с пистолетом в руке и все костры с картошкой распинал, разок-другой привесил сапогом кому-то из подчиненных, заставляя заливать огни. До нас доносило: «Раздолбаи! Размундяи! Раз…», ну и тому подобное, привычное нашему брату, если он давно пребывает на поле брани.
Мы подзакопались, подали конец связи пехоте, послали туда связиста с аппаратом. Он сообщил, что сплошь тут дядьки, стало быть, по западно-украинским селам подметенные вояки, что они, нажравшись картошек, спят кто где и командир роты весь испсиховался, зная, какое ненадежное у него войско, так мы чтоб были настороже и в боевой готовности.
Крестик на костеле игрушечно мерцал, возникая из осеннего марева, сельцо обозначилось верхушками явственней, донесло от него петушиные крики, вышло в поле пестренькое стадо коров и смешанный, букашками по холмам рассыпавшийся табунчик овец и коз. За селом холмы, переходящие в горки, затем и в горы, далее – грузно залегший на земле и синей горбиной упершийся в размытое осенней жижей поднебесье тот самый перевал, который перевалить стремились русские войска еще в прошлую, в империалистическую, войну, целясь побыстрее попасть в Словакию, зайти противнику в бок и в тыл и с помощью ловкого маневра добыть поскорей по возможности бескровную победу. Но, положив на этих склонах, где мы сидели сейчас, около ста тысяч жизней, российские войска пошли искать удачи в другом месте.
Стратегические соблазны, видимо, так живучи, военная мысль так косна и так неповоротлива, что вот и в эту, в «нашу» уже, войну новые наши генералы, но с теми же лампасами, что и у «старых» генералов, снова толклись возле Дуклинского перевала, стремясь перевалить его, попасть в Словакию и таким вот ловким, бескровным маневром отрезать гитлеровские войска от Балкан, вывести из войны Чехословакию и все Балканские страны, да и завершить поскорее всех изнурившую войну.
Но немцы тоже имели свою задачу, и она с нашей не сходилась, она была обратного порядка: они не пускали нас на перевал, сопротивлялись умело и стойко. Вечером из сельца, лежащего за холмом, нас пугнули минометами. Мины рвались в деревах, поскольку ровики, щели и ходы сообщений не были перекрыты, сверху осыпало нас осколками – на нашем и других наблюдательных пунктах артиллеристы понесли потери, и немалые, по такому жиденькому, но, как оказалось, губительному огню. Ночью щели и ровики были подрыты в укос, в случае чего от осколков закатишься под укос – и сам тебе черт не брат, блиндажи перекрыты бревнами и землей, наблюдательные ячейки замаскированы. Припекло!